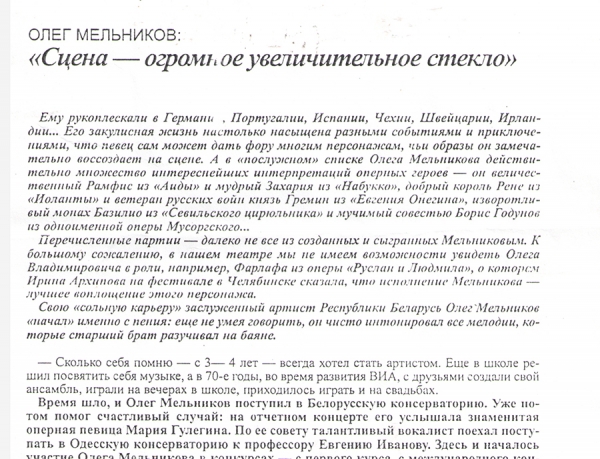Перечисленные партии — далеко не все из созданных и сыгранных Мельниковым. К большому сожалению, в нашем театре мы не имеем возможности увидеть Олега Владимировича в роли, например, Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила», о котором Ирина Архипова на фестивале в Челябинске сказала, что исполнение Мельникова — лучшее воплощение этого персонажа.
Свою «сольную карьеру» заслуженный артист Республики Беларусь Олег Мельников «начал» именно с пения: еще не умел говорить, он чисто интонирован все мелодии, которые старший брат разучивал на баяне.
— Сколько себя помню — с 3— 4 лет — всегда хотел стать артистом. Еще в школе решил посвятить себя музыке, а в 70-е годы, во время развития ВИА, с друзьями создали свой ансамбль, играли на вечерах в школе, приходилось играть и на свадьбах.
Время шло, и Олег Мельников поступил в Белорусскую консерваторию. Уже потом помог счастливый случай: на отчетном концерте его услышала знаменитая оперная певица Мария Гулегина. По ее совету талантливый вокалист поехал поступать в Одесскую консерваторию к профессору Евгению Иванову. Здесь и началось участие Олега Мельникова в конкурсах — с первого курса, с международного конкурса имени Дворжака в Чехословакии, где он был признан лучшим. Особенно ответственным выступлением для Олега, студента третьего курса консерватории, стал Первый конкурс имени Федора Шаляпина в Казани, на родине знаменитого певца.
— Для меня этот конкурс был, пожалуй, самым тяжелым соревнованием: все-таки первый конкурс имени Шаляпина. Но почему-то я был уверен, что выиграю. Может быть, самоуверенность мне и помогла. Возрастной ценз был до 38 лет, право участвовать имели только солисты театров. Вся программа построена на репертуаре Шаляпина. Совершенно спокойно я прошел первый, хорошо спел второй и третий. По условию конкурса всего было три премии, а к третьему туру пришли 16 или 17 человек, да еще каких! Саша Анисимов, Виктор Шость, Николай Решетняк, Николай Путилин — певцы достаточно известные.
Конкурсные туры закончились, назавтра — объявление результатов. Все собрались, ведущий произнес: «После долгих прений единственная первая премия единогласно отдана Олегу Мельникову». И — тишина.
Поскольку оказалось неожиданно большое количество участников и столько замечательных голосов, предварительно жюри решило из каждой премии сделать три: три первых, три вторых и три третьих, и, кроме того, дать 4 или 5 дипломов. А тут дают первую одну!
— Все бы ничего, но вечером — заключительный концерт лауреатов: теперь выйди и докажи, что ты — первый! Вот это было ощущение... Когда я осознал всю ответственность, то понял, что это — всё! Надо отдать должное моему концертмейстеру Татьяне — это «железный Феликс», человек, с которым я получил все регалии. Ведь концертмейстер — это половина успеха: многое зависит от того, как он даст настроение, как эмоционально подготовит певца.
После концерта нам объявляют, что вечером можно прийти посмотреть видеокассету с записью выступления. В Казанском театре уже тогда был благоустроенный класс с видеомагнитофоном. Сначала на кассете — дипломанты, потом — лауреаты. Все немного расслабились. А когда очередь дошла до моей арии, вдруг стало тихо-тихо. (Надо сказать, что до этого я записывался один-единственный раз на Белорусском радио, и когда я, услышав себя, вышел оттуда, то плевался, плакал и говорил своему педагогу по музыкальному училищу Адаму Османовичу Мурзичу: «Если у меня такой поганый голос, зачем мне петь?») И вот я сидел в Казани в видеоклассе и с ужасом думал: «Сейчас все услышат, какой у меня на записи голос». Мне стало дурно, я весь взмок, но зазвучали первые ноты, и полился такой объемный, мягкий звук. Не мой, совершенной красоты голос! «Весь табор спит, луна над ним полночной красотою блещет...» Мне стало так легко, как не было никогда в жизни.
Так мы выиграли конкурс имени Шаляпина. После возвращения в Одессу меня вызывает к себе Евгений Николаевич и говорит: «Олег, сейчас вы поедете на мероприятие, которое, возможно, решит всю вашу судьбу. Вас приглашает в Таллинн на концерт Ирина Архипова. Это будет представление лучших молодых сил Союза, поэтому вы и сами понимаете, насколько это ответственно. Перед концертом очень волновался. Волнение было связано не с тем, что могу плохо спеть, а скорее с тем, что не смогу показать до конца то, что умею. Спел несколько номеров, в том числе и «Блоху», ушел со сцены. А Ирина Константиновна стоила в кулисах (она всегда на концертах стояла в кулисах) и сказала мне: «Олег, у вас красивый голос, прекрасный тембр. Вы знаете, я очень настороженно отношусь к певцам, которые ставят в свою программу «Песню Мефистофеля о блохе» Мусоргского, потому что это произведение требует особого чувства меры, вкуса и формы». Я стою и думаю: ну сейчас получу. «Я ничего подобного не слыхала».
— И это говорит Архипова!
— Да, и с тех пор она стала меня приглашать для участия в концертах. Однажды Ирина Константиновна мне говорит: «Вы знаете, Олег, вам нужно делать карьеру баса-буффо» (то есть исполнителя комических партий). Как по сердцу резануло: у меня же драматическое нутро, а тут такое услышать! Согласен, чувствую в себе и клоунские наклонности, я могу веселить публику, хорошо себя чувствую в компаниях. Но ее слова причинили мне сильную боль.
В памятном августе 1991 года, когда я только-только вернулся из кругосветного туристско-певческого путешествия, был объявлен конкурс вокалистов в Швейцарии. Помню, мы летели на такси между стоящими посреди улиц Москвы танками. Только благодаря таксисту успели: он привез нас на вокзал за 8 минут до отхода поезда. Уже в поезде появилась мысль: «Если это переворот, то о лучшем месте, чем Швейцария, мечтать не приходится».
В Швейцарии был конкурс на выживание. 28 дней тяжело выдержать даже физически, не говоря уже о сохранении хорошей вокальной формы. До пятого тура все певцы шли под определенными номерами: ни страну, ни фамилию никто не объявлял. Но члены жюри, видимо, все равно догадывались, кто есть кто. Самым сложным был третий тур. Нужно было спеть шесть произведений, между которыми перерыв — максимум 5—10 секунд. Я построил свою программу так: монолог Бориса «Достиг я высшей власти», переходящий в сцену сумасшествия, «Блоха», «Судьба» Рахманинова, а затем сразу Фарлаф из «Руслана и Людмилы».
— Полярные произведения!
— Еще бы! Когда я пел «Судьбу», заметил, что Архипова очень близко восприняла этот романс. И сразу мелькнула мысль: ну все, мы в четвертом туре. Потом она сказала: «Когда я говорила, что вы — бас-буффо, я весьма и весьма ошибалась». Честно скажу, у меня как гора с плеч свалилась: еще были свежи в памяти ее слова.
Вскоре на очередной встрече Ирина Константиновна скажет Олегу Мельникову очень важную для него фразу: «Олег, вам нужно найти своего дирижера, который бы понял вас, вы сами не знаете, что можете совершить в искусстве».
Вообще швейцарский конкурс оставил много воспоминаний. Когда для проведения четвертого тура нас вывезли из Женевы, меня поселили в семью главврача психбольницы, которая жила в вырубленном в скале трехэтажном доме. Это было потрясающе! А прямо над домом, на горе, находилась психбольница.
— Хорошее соседство!
— Да. Меня поразило: в доме не было телевизора, зато стоял рояль, а рядом лежали виолончель, скрипка и флейта: врач с женой и детьми часто музицировали.
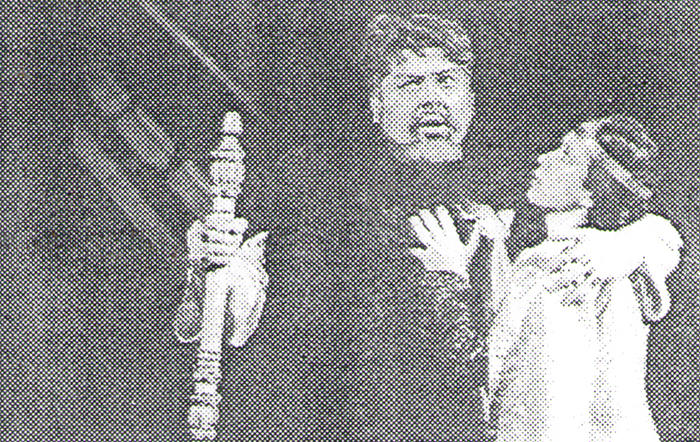
На пятом туре я исполнял молитву Захарии из «Набукко» и монолог Бориса. Когда заиграл оркестр, мне ничего другого не оставалось, как вступить с ним в «схватку»: поймать тональность в монологе Захарии не представлялось возможным. Затем выходит мой главный соперник (баритон) и попадает в такую же ситуацию. За кулисами к нам подошла Ирина Константиновна и сказала: «Ну что, намудрили? Намудрили. Оба. Правда, жюри признало, что это не ваша вина: оркестр играл отвратительно».
— Давайте на некоторое время отвлечемся от вашей конкурсной биографии. Победа на конкурсе имени Шаляпина и успешные выступления па других вокальных состязаниях заинтересовали людей, не столь тесно соприкасающихся с классическим искусством. Приглашение в певческое кругосветное путешествие получает далеко не каждый талантливый именитый исполнитель.
— За 7 месяцев я посетил более 48 стран, а сколько спел концертов — уж и со счету сбился. В таких странах, как Италия, Испания, Португалия практически нет городов, где не был. Амазонку проплыл от истоков до впадения в океан, в Рио-де-Жанейро 8 раз был, могу экскурсии водить. Буэнос-Айрес, Аргентина, Скандинавские страны... Впервые видел крокодила двух метрах от себя, впервые был в ресторане на дне моря. Все было необычно — острова, рыбалка в океане, когда осьминога поймали, и громадная белая акула плавала вокруг корабля... Как-то на Амазонке пошли в лес, но нас не надолго хватило.
— С проводником ходили?
— Нет, поэтому и осилили только метров 500. Сплошная чаща леса, над головой неба не видно, и звуки, которые могут только в мире существовать, слышатся вокруг тебя — это совершенно непередаваемая какофония.
— Вы не хотели бы повторить такое путешествие?
— Нет, меня приглашали еще два года подряд, но я отказался: это невероятно тяжело. Петь концерт, когда в море 8 балов, — не для меня. Туристам ничего — они улягутся в кресла и слушают. В шторм программа не отменяется: турист за все уплатил, он хочет слышать концерт классической музыки.
— Давайте продолжим разговор о ваших конкурсах. Итак, куда же вы поехали после выступления в Швейцарии?
— В очередной раз проводился конкурс в испанском городе Памплона. Там я прошел все туры, но при объявлении результате моя фамилия вообще не прозвучала. В смешанных чувствах мы с концертмейстером Татьяной уже через час ехали в Союз. Я до сих пор не понял, что произошло. Только через 2 недели меня догнало письмо на русском языке с огромными извинениями и сообщением, что я все-таки лауреат. Но воспринял это уже как постскриптум, уже отпереживал. Когда рассказал Архиповой, она заметила, что случай небывалый.
Потом был конкурс в Германии, конкурс имени Чайковского, и последний — в Португалии. Так и кончилась моя эпопея с конкурсами. Да и конкурсный возраст миновал.
— И теперь вы — член жюри. Как вы считаете, полезна система конкурсов? Стоит ли за ней желание отыскать и открыть новые таланты?
— Естественно. На последнем конкурсе имени Глинки я посмотрел на соревнование уже с другой стороны, с точки зрения члена жюри. Объективность присутствовала во всем, не прошел бы никакой блат. Если ты как член жюри был необъективен, то, когда идет концерт лауреатов, сам же будешь сидеть в зале и краснеть: кого ты выпустил в финал? Могу сказать, что за последний глинкинский конкурс стыдно не было.
Неудачники говорили и будут говорить, что не нужно делать спорт из искусства. Однако в любом театре все «первачи» — лауреаты. Не поверю я, чтобы был «первач», который нигде ни в чем не участвовал. Такое может случиться только в силу обстоятельств: наши старики работали, когда конкурсов почти не было. Да и попасть на них было почти невозможно. Ведь чтобы поехать на международный конкурс, я должен был пройти отбор на Украине, потом всесоюзный. Сейчас проще: куда хочу, туда еду, лишь бы деньги были.
— В конце XX века распространилось мнение, что жанр оперы умирает. Какие проблемы в белорусском оперном театре вы считаете наиболее острыми и актуальными на сегодняшний день?
— Причин для беспокойства за судьбу и положение белорусской онеры хватает. Потенциальные возможности нашего оперного театра огромны. Прежде всего, это очень хороший оркестр, великолепный хор, достаточно мощная труппа солистов. Я много езжу на гастроли и могу с уверенностью сказать, что не каждый театр может похвастаться таким объемным репертуаром. Жаль, что многое идет в концертном исполнении в силу экономического положения. На мой взгляд, в сезон мы можем реально делать 3— 4 постановки.
— Вы исполнили достаточное количество ролей. Какие музыкальные образы вам сейчас интересны?
— Действительно, меня приглашают петь в разных постановках по всему бывшему Союзу, я постоянно участвую в международных фестивалях. Я бы хотел, чтобы больше ставилось опер русских композиторов. Например, «Руслан и Людмила» — потрясающая опера. Я уже не говорю про такие полотна, как «Хованщина», где множество ярких персонажей и сильнейших характеров! У нас есть певцы, которые справились бы с этой оперой.
— Как Вы чувствуете себя после спектакля, после мощной психологической нагрузки?
— Не сплю до 3—4 часов утра, вспоминаю все, что делал, вновь пропускаю через себя спектакль, ищу ошибки, нелепости. Так меня учил мой профессор: запоминать каждый спектакль как видеоряд. Вплоть до физических ощущений, которые испытывал в тот момент.
— На ваш взгляд, как должны вести себя солисты на сцене, чтобы возникал контакт с публикой?
— Обязательно нужно учитывать вещи, не имеющие прямого отношения к музыке, однако часто определяющие успех или неуспех концерта или спектакля. Чтобы не быть голословным, поделюсь своими наблюдениями и опытом выступлений перед публикой. Например, белорусы — нация спокойная, дисциплинированная, северная. Поэтому нам от природы присущи застенчивость и человеческая сдержанность. Из-за таких черт характера в зрителях трудно пробудить чувственность, растопить некоторый холод. Именно поэтому актер должен чувствовать в несколько раз сильнее, чем слушатель. В то же время на сцене нельзя забывать о чувстве меры. Мы играем драму, комедию, причем, жанр комедии даже более опасный. Если в драме недобираешь — ну что ж, Бог с тобой. А в комедии в таком случае ты выглядишь дураком.
Сцена дана актеру для того, чтобы заставить слушателя переживать. Для этого артисту необходимо изменить свою психологию. Ведь я не иду на сцену Мельниковым: я остаюсь где угодно, но на сцене Мельникова нет. Нужно очень тонко чувствовать, как рождается сценический образ. Сцена — это ведь огромное увеличительное стекло. Зрителя важно заставить поверить в происходящее. Если у меня любовная сцена — я должен любить, если убиваю — должен убивать. Это может называться актерским мастерством или как угодно по-другому, но без этого театра быть не может, иначе он превратится в костюмированную филармонию.
Многие солисты потеряли интерес к творчеству. На даче работают целый день, а вечером приезжают на спектакли. Как это можно?.. Можно допустить, что так поступали Евстигнеев или Плятт, которым на перевоплощение нужна секунда... Помимо желания коллег работать по-настоящему, в театре очень нужна высокопрофессиональная, уважаемая власть. А наш белорусский менталитет — «абы шха» — не вызывает особого восторга. В театре не может и не должно быть демократии, иначе начинается вседозволенность. Искусство — это прежде всего творчество талантливых личностей. Я в расцвете сил и хочу, чтобы мной руководил талантливый человек, я хочу без конца учиться!
Мелочей в театре не бывает, каждая нелепость со сцены кричит. Наверное, кто-то считает, что публика ничего не понимает, однако после очередного спектакля «Борис Годунов» в фойе театра я случайно услышал фразу одного из зрителей: «Юродивый в сапогах вышел, а сапожки-то, между прочим, замшевые...»
Сегодня при нашей жизни билеты в театр — дорогое удовольствие! Не каждый может себе позволить сходить на 2—3 спектакля в месяц... Выбрав определенный момент, человек устраивает себе праздник — идет в оперный театр, может, берет с собой детей. (А у кого-то это будет первый поход в театр!) И он увидит такое «творчество» на сцене! Да человек запомнит этот вечер на всю жизнь. «Был я в этой опере! — скажет он. — Туда меня больше ничем не заманишь!» А ведь опера — это величайшее из искусств, которое многое впитало и синтезировало в себе: симфоническую, хоровую, сольную музыку, актерское мастерство, театр, балет, литературу, изобразительное искусство... Где еще можно увидеть все это в одном спектакле?
— Да, таким соцветием искусств может похвалиться только опера. Олег Владимирович, раньше работать в Минск приезжали оперные певцы из разных городов России. Сейчас в труппу приходят только выпускники Белорусской академии музыки. Каким образом это отражается на жизни оперного коллектива?
— К сожалению, у нас сегодня такое состояние труппы, что только своими силами не обойдемся. Нужно «вливание». Очень плохо, что приходится вариться в собственном соку и мы не можем пригласить никого извне. Я много езжу по бывшему Союзу и слышу молодые голоса — выдающиеся, замечательные, уникальные!
В Беларуси есть масса «попсовых» фестивалей: «Славянский базар», «Золотой шлягер», но нет ни одного, который бы представлял настоящую, элитарную культуру. Единственный театр в республике, который занимается пропагандой оперного искусства, требует к себе особого внимания со стороны высших инстанций. Нужно учитывать и то, что театр привлекает иностранных дипломатов, гостей и является показателем уровня культуры страны. А ведь с уходом старшего поколения в театре наступит вакуум: у нас нет крепкого среднего звена, а с молодыми еще работать и работать! Ведь на то, чтобы вырастить певца, нужно как минимум 10— 15 лет. Здесь важно учитывать много факторов: становление человеческой личности, взглядов на жизнь, даже физиологическое становление (организм формируется, крепчает к 35— 40 годам). Певцу, солисту театра, нельзя прощать ни одной пустой ноты, ни одной секунды непережитого пения. Лишь когда пение станет естеством исполнителя, его потребностью, такой, как есть, пить, дышать, — только тогда можно говорить о состоявшемся профессиональном отношении к делу. Театр должен быть для артиста домом, иначе это не искусство.
Подготовить любую, даже самую маленькую партию — это же огромное поле деятельности и фантазии! Театр — это действо, а пение — только средство его подачи.
— Наверное, эти постулаты должны вкладываться в сознание исполнителя еще в стенах учебного музыкального заведения?
— Безусловно. Будь моя воля, я в театр не брал бы певцов без полного музыкального образования. Одной консерватории для воспитания вокалиста мало — нужно закончить и музыкальную школу, и училище. Ведь и музыкальную интеллигенцию тоже надо воспитывать. Этот этап я прошел благодаря моим педагогам: посчастливилось застать маститых дирижеров в Одесском театре, где работал во время учебы в консерватории. Среди сегодняшнего молодого поколения есть потрясающе талантливые певцы, но их надо направлять, что-то показывать на личном примере, а что-то даже и заставлять делать. Рассказывает один из коллег: «Я совсем пустой, а вечером спектакль. Я хватаю томик Тютчева, уезжаю в лес и читаю». И я могу понять этого человека. У меня было похожее состояние во Франции, когда мы с Натальей Костенко ездили петь приват-концерт. Спектакль петь проще — ты можешь спрятаться за грим, за костюм, каждый спектакль имеет свой запах — и внутри тебя что-то появляется. Концерт петь очень тяжело, ведь нужно одному держать тысячный зал. Это требует мощного биополя, накопления эмоций. И я пошел по старинным аллеям (мы выступали в старинном замке) — и, знаете, «насобирал»! Концерт получился очень хороший.
— Олег Владимирович, вы так часто ездите па гастроли, а существует ли для вас понятие «дом»?
— Конечно, это Минск. Я белорус, все мои предки отсюда. У меня сильно развито чувство родины. Я не из тех людей, которым где глубже, там и лучше. Это «где лучше» надо создавать самим. На мафию бездарей нужно создавать свою коалицию талантливых людей. Это тяжело, это трудно. Почему? Потому что настоящая личность в «кучковании» не нуждается, это ей чуждо. Настоящей личности чуждо само понятие стадности, она сильна сама по себе.
Искусство и культура все-таки — разные вещи. Смешение понятий произошло оттого, что в Советском Союзе была развита художественная самодеятельность (которой больше нигде нет). Какое искусство, о чем речь?.. За границу кто ездил? Только художественная самодеятельность. Это нанесло огромный урон восприятию искусства и самому искусству. Вспомним фильм «Волга-Волга». В Москву целыми пароходами везли людей на смотры художественной самодеятельности! И потом, кто определяет: это искусство или не искусство? Один мой знакомый говорит: «Для меня искусство — это когда идет холодок по спине или мурашки». Почему то, что делали Смоктуновский и Шукшин, всегда было искусством? Когда я говорю о коалиции талантливых людей, то прежде всего имею в виду команду единомышленников. Посмотрите, к примеру, фильмы Эльдара Рязанова — из картины в картину «кочуют» одни и те же актеры. Это и понятно: режиссер однажды собрал сплоченный коллектив, и у него появилась прекрасная возможность осуществить свои идеи и замыслы. Подчеркиваю: речь идет именно о команде, а не о толпе.
— Олег Владимирович, я знаю, что вы увлекаетесь охотой.
— Пожалуй, охота — это второе место по выбросу адреналина.
— Первое — сцена?
— Да. Ведь как проходит охота? Загонщики идут с собаками с одной стороны леса, а на выходе становятся стрелки. Тут уже не угадаешь: выбежит зверь на тебя или не выбежит? Я не могу стрелять в лося, в косулю. И поэтому становлюсь на первый номер, с самого края, где вероятность, что на тебя выскочит зверь, очень маленькая. Свежий воздух, ожидание зверя... Стоять зимой в 20-градусный мороз с ружьем, не шевелясь, — силу воли надо иметь. Кашлянуть нельзя, закурить нельзя, говорить нельзя, чихать нельзя — ничего нельзя. Схоронишься под елку, зашьешься в снег, чтобы зверь не увидал. Иначе он тебя заметит гораздо раньше, чем ты его. Это искусство. Плохо оделся — замерзают ноги, руки стынут. Снег по колено... Треснет сучок — и все в тебе замирает: а вдруг кабан? Выскочит зверь, откуда ты его и не ждешь. Может быть все что угодно.
В охоте для меня главное — природа, общение, впечатления. Иногда и добыча есть. Кстати, охота — это больше убыток, нежели добыча. Пострелять хочется — патрончики нужны. Или, бывает, сезон охоты на уток, а утки не летят — стреляем по бутылкам. А попасть в утку — не такое уж простое дело! Думаете, она медленно летит, «паф!» — и все? Нет. Она летит как пуля: бывает, не успеваешь даже ружье вскинуть.
Помню, первый раз в жизни утку подстрелил. Мне, как мальчишке, хотелось кричать: «Я попал! Я попал!» Когда я первый раз сводил сына в тир, он точно так кричал: «Я же попал, папа! Ты видел, я же попал!»
— От ваших профессиональных интересов и хобби мы плавно перешли к радостям семейной жизни. Выходные любите проводить дома или в кругу друзей?
— С годами я все более замыкаюсь. Не люблю пустой траты времени, неинтересных людей, перестаю жалеть дураков.
— В консерватории вы хорошо играли на фортепиано, а сейчас занимаетесь хотя бы для души?
— Безусловно, за эти годы инструмент стал частью моей жизни. Конечно, я для себя играю — и не всегда классику. Было время, когда сочинял песни, стихи. Начал писать, когда жил в Одессе. Это был совершенно незнакомый город, где некому было даже слово сказать. А было мне 25 лет, когда новыми друзьями обзаводиться поздно. Все осталось в Минске, хорошее и плохое. В какие-то моменты хотелось поделиться, поговорить с близким человеком, вот и говорил — бумаге. Еще ничего не написав, я знал, что моя тетрадь со стихами будет называться «Откровение». Откровение — это боль: боль своя, боль того, кто это откровение несет...